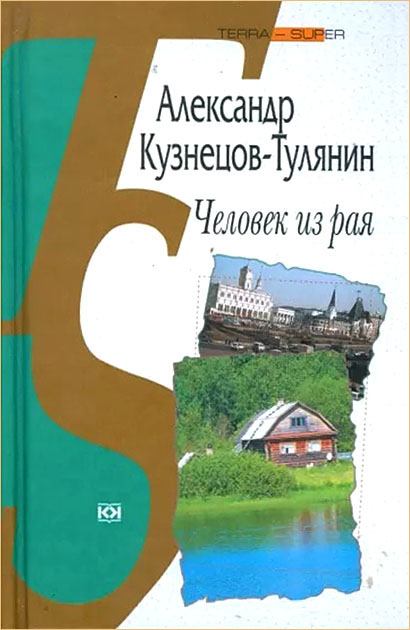много выше куцей прибитой суши, он вот-вот разольется, затопит землю пеной и валами, но здесь, на границе воды и суши, почему-то нарушаются законы тяготения, и вздутый океан не проливается из гигантской чаши.
Сутки рыбаки пролежали пластом на нарах, спали или подремывали, едва прикрыв глаза, слушая сквозь вату полусна могучий рев за стеной и вибрацию стекла в окошке. Один Валера маячил у плиты, когда нужно – толкал спящих, звал есть, они вразнобой сползали с нар, садились за стол, бездумно и лениво работали ложками и опять лезли на нары. Валера ради того, чтобы развлечь их, заводил старую песню:
– Я на Сахалине… было дело… ну да… познакомился с офицерской бабой… Возвращалась с материка, хоронила кого-то… И вот мы целую неделю, в натуре… – Он большего не мог рассказать и тогда издавал цокающие звуки, лицо его оплывало слащавостью.
Витёк заинтересованно разворачивался на нарах, высовывал голову с приоткрытым ртом и выдавал то, что, наверное, сам когда-то слышал:
– Офицерские жены в этом толк знают. Это их настоящая профессия…
Бессонов не встревал в разговор, он неподвижно лежал на спине, закинув руки за голову, и думал: «Какие обязательства я должен нести перед этими людьми, кроме обязательств работы? Ничего я им не должен, как, вероятно, не должны и они мне…»
Но тут же он забывал свои мысли. Тупо болели руки и самопроизвольно дергались мышцы. Ладони были теперь лишены мозолей, стершихся от работы в воде. Истончившаяся прозрачная шкура на них каждую ночь успевала засохнуть и стянуться, и утром, когда забывшиеся рыбаки разгибали пальцы, шкура лопалась до крови. Спасались вазелином, но Эдик Свеженцев смазывал руки непонятной мазью из тюбика с японскими иероглифами, который он нашел на берегу. Мазь имела запах протухшего в стирке белья, но Эдик относил запах к полезным свойствам снадобья, дважды в день – утром и вечером – извлекал из чемодана тюбик и, распространяя зловоние, втирал мазь в покореженные ладони.
На второй день они узнали по рации, что еще с началом шторма на соседнем Итурупе погиб рыбак-прибрежник, и Бессонов понимал, что теперь головы всех будут долго заняты тягостной новостью. Никто из них не спрашивал, как погиб рыбак, они слышали официальное брехливое сообщение: погиб в море, нарушив технику безопасности, и этого было достаточно. Они хорошо знали, как он мог погибнуть, все выходило одно – океан ворвался ему в грудь, залил его до краев.
И в тот же день, к вечеру, из шторма пришла группа измаявшихся научников, вулканологов или геофизиков – для рыбаков эти тонкости были не совсем понятны. Две женщины и трое мужчин, груженные яркими рюкзаками. В бараке стало тесно и сыро от людей, шумно стаскивавших мокрые рюкзаки. Они сдержанно здоровались, и в их одежде, в повадках, движениях, взглядах с первой минуты чувствовалась неведомая и недоступная жизнь, будто явились к рыбакам инопланетяне. Хозяева, взволнованные появлением инопланетянок, суетливо помогали разместиться гостям.
Вулканологами командовал старик в малиновой капроновой куртке – из тех стариков, взглянув на которых сразу видишь, как сквозь сухую полупрозрачную труху, сквозь морщины светится хлипкий тонкорукий студентишка в очках. Под болоньевым беретом, под очками – глаза не то чтобы отринутые от всей той обиходной мишуры слов, которую профессор сыпал на стороны, вовсе не задумываясь, а глаза, блуждающие в параллельных пространствах.
Один из его молодых крепких спутников, обросший внушительной двухнедельной черной щетиной, первое, что сделал, даже не сняв еще свой рюкзачище, – подхватил рюкзачишко с плеч старика и выдвинул из-под стола угол лавки. Профессор, опираясь на столешницу, устало сел. Но он, как вошел, продолжал говорить:
– …Вот такие мы беспардонные, вы нас извините, но, если позволите, мы потесним вас на одну ночь, а там, глядишь, кончится ненастье… Девушки устали, и за несколько часов сна, я думаю, мы наберемся достаточно сил…
И Бессонов, говоривший в ответ обязательные гостеприимные фразы, думал, что человек этот в том возрасте и состоянии, когда сразу два дела уже не под силу, нужно было отдаваться чему-то одному: либо двигаться – стаскивать залитые водой сапоги, разбирать рюкзачок, переодеваться, либо замереть, как восковая фигура, и бодро шевелить одним только ртом. – Однако представьте себе, я добился намеченного: станцевал на вершине Тяти-ямы чечетку… Но это уже в последний раз, в последний раз… – И тут же перескакивал: – Второй день без горячей еды, неимоверная погода, а ведь у нас очень капризное оборудование…
– Как же вы шли по штормовому? Надо было встать лагерем в распадке.
– Время, дорогой… э-э-э?..
– Семён.
– Очень рад, дорогой Семён, а меня – Георгий Степанович…
– Вы из Владивостока?
– Берите дальше, дорогой Семён, – из самой матушки…
Но и старик, и двое его крепких аспирантов-денщиков были отодвинуты на периферию зрения. Все пространство заполняли две женщины: шорохами, движениями, блеском глаз, взлетом бровей, голосами, которые едва раздались, – всего несколько слов, но рыбаки только их и слышали – слышали даже не сами слова, а высокие грудные женские интонации, гипнотическое журчание звуков, которые вливаются в уши и еще дальше и глубже и протекают по таким тонким и нежным сосудам, что трепет и ласка разливаются по всей душе. И глаза косились только на женщин неотступно и своевольно: встань к женщинам спиной, а глаза все равно вывернутся, будто на затылок сползут, и увидят, как та, которая постарше, присела у своего огромного рюкзака, мокрый болоньевый костюм обхватил ее всю, демонстрируя знающим ценителям сильную тугость закаленного сорокалетнего тела, которое… самое-самое оно, то что нужно… А другая тем временем – молодая, но не менее крепкая и закаленная – уже зашла за полог, который быстренько соорудили Валера и Витёк, и в тесноте переодевалась в сухое. Но нет-нет да и высовывалась обнаженная рука, просила что-то у подруги, и полог ходил ходуном от энергичных движений. Тут уж воображение усаживало примолкших рыбаков на спины необузданных крылатых кобылиц и несло в поднебесье. Они на глазах преображались. Торчащее из постелей-берлог тряпье прикрылось как бы ненароком, исчезли развешенные над буржуйкой вонючие портянки и грязные портки. И не стало слышно мата-перемата, а без мата, заполнявшего межсловесные бреши, рыбаки вдруг почувствовали себя косноязычными.
Вечером они кормили гостей едой, на которую сами уже смотреть не могли: рыбой, икрой, крабами. Свеженцев прогнал Валеру от плиты, сам хозяйничал. За столом теснились, жевали, гости смеялись, охали. А когда Свеженцев выставил полную жаровню лососьих сердец и печени, жаренных с луком, а следом – противень с беловато-розовыми котлетищами и пояснил:
– Это я из крабов навертел, – гости не поняли, тихо спросили:
– Из чего?
– Так ведь из этих, из крабных ног. Но я сальца и луку добавил, так вкусней…
Гости растерялись и некоторое время не могли притронуться к странной еде. Рыбаки же пытались рассуждать о чем придется, но получалось по большей части несвязное мычание.
– Здесь, значит, уже были научники… – говорил Валера. – В начале путины… Но они так прошли… Чай попили, значит, и прошли… И были одни мужики.
– Они были орнитологи… – добавлял Витёк. И рыбаки опять замолкали, не имея на уме приличных междометий, способных скруглить изорванную речь. Стараясь быть чинными, аккуратно ели, не чувствуя вкуса.
– Да-да, орнитология – весьма интересная наука, – подхватывал профессор, но и сам замолкал, разламывая крабовую ногу, а потом добавлял с восторгом: – Замечательно, замечательно… – испытывая двойное удовольствие: от вкусной еды и оттого, что есть можно было вот так, по-простецки, сколько угодно – крабов и рыбу руками, икру ложкой из миски, что можно было заливать рукава брызжущим солоноватым крабовым соком, ковырять в зубах спичкой, отламывать хлеб большими кусками…
Но на профессора рыбаки не обращали внимания, украдкой следили за женскими тонкими пальчиками, за губками, подвижными и мягкими, за дыханием, которое вздымало приятно выпуклые свитера. Обе дружно ухаживали за профессором, который ел много, не по возрасту и не по фигуре.
– А значит, оно так, – опять робко подал голос Валера. – А значит, есть у вас спиртец?
– Спирт? А как же… – Профессор кивнул заросшему щетиной помощнику, тот молча встал, подался к горе рюкзаков в углу. Но Бессонов остановил аспиранта, придержав за рукав:
– Спирт отменяется, – и по направлению к Валериному свернутому носу вытянул внушительный кулак.
Профессор дипломатично уводил разговор в сторону:
– Думал ли я, что на старости лет отведаю крабов – вот так, вволю…
– А в